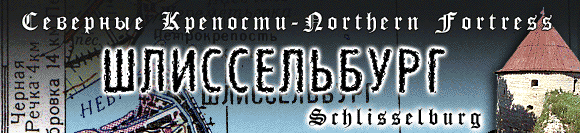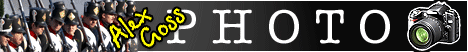Первое знакомство
Оставь надежду у входа...
(Данте)
- Приехали, барин!
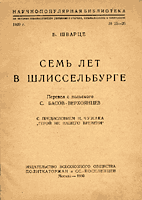 Перед нами, словно огромная темная стена, стоит Ладога. Озеро как будто поднимается и силится закрыть собою горизонт. Так и ждешь, что вот-вот вся эта громада воды рухнет на тебя. Даже яркое июньское солнце не в силах позолотить этих угрюмых волн; они не блестят, а кажутся серой непрозрачной массой. Напротив нас, точно темный нарост на плоской поверхности озера, выступают прямо из воды стены крепости. Это и есть тот знаменитый в русской истории Шлиссельбург, где умерщвляли царей и где должны были гнить наиболее опасные из врагов Готторп-Гольштинской династии...
Перед нами, словно огромная темная стена, стоит Ладога. Озеро как будто поднимается и силится закрыть собою горизонт. Так и ждешь, что вот-вот вся эта громада воды рухнет на тебя. Даже яркое июньское солнце не в силах позолотить этих угрюмых волн; они не блестят, а кажутся серой непрозрачной массой. Напротив нас, точно темный нарост на плоской поверхности озера, выступают прямо из воды стены крепости. Это и есть тот знаменитый в русской истории Шлиссельбург, где умерщвляли царей и где должны были гнить наиболее опасные из врагов Готторп-Гольштинской династии...
Но вот от крепостного вала что-то отделилось и начало приближаться к нам. Через минуту даже мои слабые глаза увидели какое-то плывущее пятно, по обеим сторонам которого равномерно шевелились темные лапы, и вдруг показалась лодка, подвигавшаяся с помощью длинных морских весел, хорошо мне известных еще с детства, когда я жил на берегу бурливого Атлантического океана. Еще минута и к берегу пристало судно с шестью гребцами, сумрачным рулевым и суровым, с сильной проседью, офицером. Главный жандарм подошел к нему мерным шагом и, отдав честь, вручил белый пакет; возница соскочил с козел и перенес в лодку мои вещи; затем, звеня кандалами, спустился в нее и я вместе с жандармами.
Светловолосый ямщик широко улыбнулся и, сняв низкую черную шляпу, сказал сладеньким голосом: "На водку бы, барин, за то, что счастливо доехали!"
Я не мог удержаться от смеха, так мне понравилась эта невинная ирония. Не помню, что я ответил ему по белорусски: "Штоб ты пропау", или еще что-нибудь в том же роде, всунул в широкую лапу ямщика два сребреника и, напутствуемый его пожеланиями, отчалил от берега на долгие, долгие годы...
Все меньше и меньше становились невзрачные домики и церкви уездного городка; вдали, на другом берегу Невы, чернел хвойный лес. Чем ближе подвигалась лодка к тюрьме, тем яснее вырисовывались серые стены и зеленый низкий вал, окружавший всю крепость; через несколько минут мы были у, пристани. Первым выскочил жандарм с моим багажом, а за ним по каменным ступеням поднялся и я; спустя минуту, мои тяжелые кандалы, не привязанные, по арестантскому обычаю, к поясу, а нарочно, из повстанского удальства, распущенные по земле, со звоном поволоклись по плитам под сводами невысоких крепостных ворот.
Мы прошли мимо вытянутых в струнку темнозеленых часовых, и вступили, вместе с жандармами и смотрителем в темную кордегардию. Это была обыкновенная гауптвахта, каких я видел много, начиная от Варшавы: лавки, ряд ружей, грязные стены, но здесь мне сразу бросилась в глаза длинная овальная скамейка, на низких ножках, покрытая сильно засаленной кожей; я догадался сразу, что это была солдатская "кобыла" а если бы мне понадобились еще объяснения, то и они были налицо: за кобылой, в углу лежали целые пуки серобурых розог.
Должен признаться, что вид этих инструментов, служащих для приведения в верноподданность, произвел на меня далеко не благоприятное впечатление, и мне тут же пришел на мысль отрывок из какого-то "Положения", которое я видел еще в варшавской ратуше: "На основании таких-то и таких-то статей закона, если допрашиваемый преступник, не принадлежащий к привилегированному, сословию, держит себя дерзко во время дознания и не хочет помогать следствию надлежащими показаниями, то он может быть наказан телесно"...
От кордегардии тянулся длинный крытый коридор, состоящий из аркад, расположенных вдоль глубокого выложенного камнем рва; на коридор выходили двери и окна, тюремные или другие какие, этого я тогда разобрать не мог, а через ров, на расстоянии нескольких десятков шагов друг от друга, были перекинуты каменные сводчатые мостки. За рвом лежала широкая площадь с церковью и могильными памятниками; за площадью, под крепостным валом, стояли казармы или что-то в роде этого, а с другой стороны виднелись какие-то садики и в них белые дома. Высоко над валом развевался желтый штандарт с царским двуглавым орлом. Мы шли в глубоком молчании, которое нарушалось только одним бряцанием кандалов по каменному полу.
Перешли через мост, и тут я увидел знакомый мне по Европе, но редкий в России, средневековый "секретный" замок. Две круглых гранитных серожелтых башни, с узкими бойницами, такая же гранитная стена, а посредине чернели огромные ворота со сводами; перед ними, над заворачивающимся рвом, висел новый мост, больше прежних; все указывало на то, что некогда здесь был мост подъемный, совершенно так, как и в старых замках Франции или Германии; узкий, проросший травой сток отделял стены от канала.
На стук смотрителя, часовой тотчас же отворил обитую громадными гвоздями калитку, и мы, сделав еще несколько шагов вниз по каменным ступеням, под высокими сводами, очутились внутри исторической клетки, служившей местом заключения для важнейших преступников Российской империи.
 Мрачен был вид моего нового жилища. Двор представлял собою четырехугольник, шириною шагов в 100, с гранитными стенами и такими же башнями. В каждую башню вели железные двери; узкие окна освещали, по всей вероятности, казематы, а может быть и лестницу. Потрескавшиеся от северных морозов гранитные камни были шершавы, точно покрытые лишаями, а высокие стены бросали на узкий двор огромную тень. Низкий одноэтажный флигель перегораживал замкнутое пространство надвое и неприятно резал глаза той казенной грязножелтой краской, которой отличаются русские остроги, казармы и больницы; его окна, с толстыми железными решетками, были довольно велики, но почти все заслонены остроумными "щитами", пропускавшими свет только сверху, и не позволявшими несчастному узнику видеть того, что происходило на дворе.
Мрачен был вид моего нового жилища. Двор представлял собою четырехугольник, шириною шагов в 100, с гранитными стенами и такими же башнями. В каждую башню вели железные двери; узкие окна освещали, по всей вероятности, казематы, а может быть и лестницу. Потрескавшиеся от северных морозов гранитные камни были шершавы, точно покрытые лишаями, а высокие стены бросали на узкий двор огромную тень. Низкий одноэтажный флигель перегораживал замкнутое пространство надвое и неприятно резал глаза той казенной грязножелтой краской, которой отличаются русские остроги, казармы и больницы; его окна, с толстыми железными решетками, были довольно велики, но почти все заслонены остроумными "щитами", пропускавшими свет только сверху, и не позволявшими несчастному узнику видеть того, что происходило на дворе.
Вершина кровли доходила почти до уровня окружавших замок стен, а громадный чердак сквозился маленькими полукруглыми оконцами; там и сям торчали белые трубы, а прилепленные с двух сторон дома деревянные пристройки с будками указывали, что и здесь находится кордегардия.
Все это, и серые гранитные стены, и желтый флигель, и почерневшие кордегардии, и полосатые будки, и деревянный барьер, тянувшийся перед всеми постройками, и какая-то полуразрушенная конура в углу двора, рядом с железной дверью, было серо, угрюмо, жестко и мертво. Выскочило несколько солдат с унтер-офицером впереди и остановились в почтительных позах; не было видно ни жандармов, ни офицера.
Мои больные, полузакрытые от усталости глаза сразу же заметили, что в мрачной, оставшейся от шведов клетке что-то зеленеет; мне усмехалась чахлая рябинка, унизанная коралловыми кистями; перед ближней кордегардией стояла на высоком столбе довольно неуклюжая голубятня, над которой вились белые и сизые голубки. Что-то живое мелькнуло также под голубятней, побелелось на мгновение и исчезло в землю; только после узнал я, что это тюремный кролик. Над темным двором сияло июльское небо, по которому бежали белые тучки, уносясь в те края, куда даже самодержавнейший всея России царь не может найти дороги.
Все это увидел на одно только мгновение, потому что мы тотчас же вошли в желтое здание, а снова мои оковы загремели по каменным плитам коридора, мимо какой-то отворенной комнаты кухни, как я узнал позже. Еще минута, и с треском открылась темнозеленая дверь, с маленьким оконцем, тщательно закрытым кожаной занумерованной заслонкой, и смотритель объявил мне, что я нахожусь у цели своего путешествия.
Я не обратил сначала особенного внимания на угрюмую камеру: от усталости мною овладело какое-то странное равнодушие ко всему в мире, но зато после я так часто измерял этот "третий номер" метром своего собственного изготовления (могу; похвастать, что ошибся всего лишь на 1/4 сантиметра), так часто рисовал это сводчатое окно, эту решетку, столик и грязнозеленую койку, что могу описать со всеми подробностями предназначенный для меня "чертог".
 Три шага в ширину, шесть в длину, или, говоря точнее, одна сажень и две, таковы были размеры "третьего номера". Белые стены, с темной широкой полосой внизу, подпирали белый же потолок хорошо еще, что не своды; в конце, на, значительной высоте, находилось окно, зарешеченное изнутри дюймовыми железными полосами, между которыми, однако, легко могла бы пролезть голова ребенка. Под окном, снабженным широким деревянным подоконником (стены, наверное, были толщиною в аршин), стоял зеленый столик, крохотных размеров, а при нем такого же цвета табурет; у стены обыкновенная деревянная койка с
тощим матрацом, покрытым серым больничным одеялом; в углу, у двери, классическая "параша". Вот и все. С другой стороны двери выступала из угла высокая кирпичная печь, покрытая белой штукатуркой и служившая, очевидно, для двух камер; топки не было; печь топилась из коридора.
Три шага в ширину, шесть в длину, или, говоря точнее, одна сажень и две, таковы были размеры "третьего номера". Белые стены, с темной широкой полосой внизу, подпирали белый же потолок хорошо еще, что не своды; в конце, на, значительной высоте, находилось окно, зарешеченное изнутри дюймовыми железными полосами, между которыми, однако, легко могла бы пролезть голова ребенка. Под окном, снабженным широким деревянным подоконником (стены, наверное, были толщиною в аршин), стоял зеленый столик, крохотных размеров, а при нем такого же цвета табурет; у стены обыкновенная деревянная койка с
тощим матрацом, покрытым серым больничным одеялом; в углу, у двери, классическая "параша". Вот и все. С другой стороны двери выступала из угла высокая кирпичная печь, покрытая белой штукатуркой и служившая, очевидно, для двух камер; топки не было; печь топилась из коридора.
Окрашенный в красноватую краску пол поддерживался, по-видимому, в чистоте, и вообще было видно, что все здесь часто освежалось, белилось и мылось. Однако, для человека, пришедшего сюда впервые, тесная и темная камера была невыразимо угрюма и мертва. Утомленный, я сел на кровать; около меня суетились солдаты, внося вещи. Из окна, сквозь чистые стекла, я видел часть гранитной стены и расхаживающего с ружьем часового. "Извольте снять одежду", сказал со снисходительной улыбкой смотритель, при чем его маленькие глазки посмотрели на меня почти с состраданием...
* * *
- Часть 1. Первое знакомство (Cемь лет в Шлиссельбурге, Б. Шварце)
- Часть 2. Долгие дни (Cемь лет в Шлиссельбурге, Б. Шварце)
- Часть 3. Сосед сошел с ума! (Cемь лет в Шлиссельбурге, Б. Шварце)
- Часть 4. Живы и свободны! (Cемь лет в Шлиссельбурге, Б. Шварце)
Сухопутные форты и крепости:
Выборг Гатчина Замок Бип Ивангород Изборск Кексгольм Кирилловский Монастырь Копорье Новгород Петропавловка Печорcкий монастырь Порхов Псков Старая Ладога Тихвин Шлиссельбург Замок Разеборг Кастельхольм Кюменлинна Лапеенранта Савонлинна Тааветти Турку Хамина Хямеенлинна Висбю Форт Хойторп Фредрикстад Фредрикстен Хегра Аренсбург Нарва Таллинн Антипатрис Иерусалим Кесария Масада Форт Латрун
Морские крепости и форты:
Кронштадт: о. Котлин Кронштадт: форты Северные Кронштадт: Форты Южные Тронгзунд Форт Александр Форт Ино Форт Красная Горка Свартхольм Свеаборг Ханко Ваксхольм Марстранд Форт Сиарё Оскарсборг
Артиллерийские батареи и отдельные орудия:
Береговая артиллерия Форт Хёмсо
Укрепрайоны и оборонительные линии:
Карельский УР Крепость Ленинград КрУР Линия ВТ Линия Маннергейма Невский пятачок Линия Салпа Линия Харпарског Готланд
English
П о и с к Все новости