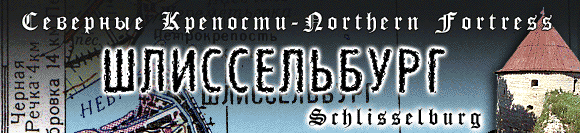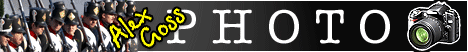Долгие дни
 Начались долгие, однообразные дни в полутемной камере, из которой ни днем ни ночью не было выхода. Сколько времени так продолжалось, - два или три месяца, - теперь уж не помню, но знаю, что у меня не было ни книжек, ни чего-нибудь другого, чем бы можно было заняться.
А праздность в одиночном заключении - это смерть, как, впрочем, и везде на свете.
Начались долгие, однообразные дни в полутемной камере, из которой ни днем ни ночью не было выхода. Сколько времени так продолжалось, - два или три месяца, - теперь уж не помню, но знаю, что у меня не было ни книжек, ни чего-нибудь другого, чем бы можно было заняться.
А праздность в одиночном заключении - это смерть, как, впрочем, и везде на свете.
Бездеятельность телесная ведет постепенно, но неуклонно к телесной смерти; праздность духовная, или, вернее, постоянное перебирание в уме одних и тех же мыслей, запас которых не велик ведь даже и у наиболее образованных людей, приводит еще скорее к ужасному концу - к смерти духовной, к сумасшествию. А спастись от этого постоянного духовного пережевывания, а также и от желаний собственного молодого тела, жаждущего движения, жизни, наслаждений, можно только одним лекарством - работой.
Есть такие люди, которые в течение нескольких лет голодают, а из тюремного хлеба вылепливают с поразительным терпением различные вещи, иногда чудеса искусства; есть такие, которые спят на досках, а из соломы, вынутой из матраца, создают еще более чудесные изделия, окрашивают их собственною кровью, придумывают и выделывают "из ничего" непонятные инструменты, изготовляют химические препараты; к сожалению, я к таким людям не принадлежу, потому что пресловутое классическое воспитание отучило меня от мысли, что я обладаю парой здоровых рук.
Постоянная дума о гибнущих братьях в Польше могла довести лишь до отчаяния даже и при непоколебимой уверенности в успехе дела; думать же только о собственной смерти, да о "загробной жизни" в награду, забыв о тех, кому мы обязаны помогать здесь на земле, я считал преступлением. Впрочем, я очень хорошо знал, что при подобных обстоятельствах последняя мысль доводит только до галлюцинаций, а затем до идиотизма и до смерти...
- Что, вы не голодны?
Замечу здесь, что такой вопрос является чем-то в роде кабаллистической формулы для подобных господ, потому что-точно также спрашивали меня и в цитадели, только по-польски, а не по-русски, и притом в чрезвычайно элегантной форме:
- Что, здесь не голодно?
И так надоедали изо дня в день. В Варшаве я отвечал: "Нет!"-так как мне присылали из дома различные яства, даже лакомства; но шлиссельбургскому плац-майору я всякий раз отвечал:
- Голоден!
В самом деле, хотя пища была и хорошая, даже с сладким, но давали ее мало и только по разу, в день. Три года я голодал, пока не привык. Куда девались отпускавшиеся на меня полтинники, не знаю, но уверен, что не все они попадали по назначению.
Черная одутловатая фигурка, бывало, пробормочет что-то, повернется и выйдет, а на другой день тот же самый вопрос и такой же ответ. Нет ничего на свете лучше регулярности!
... Итак, вот какова была моя пища, опишу раз и навсегда. Утром приносили в оловянном чайнике кипяток - пил чай; вьпросил немного молока, но и с ним, в течение долгого времени, мне было голодно, потому что раньше я пивал по утрам кофе с густыми сливками, по-польски. В полдень обед: суп, мясо, овощи. Вечером вышеупомянутый ужин, состоящий из куска мяса, и наконец, если захочу - чай. Однако, я скоро убедился, что последний был роскошью и роскошью совершенно нежелательной, так как первое время в конце каждого месяца я, по крайней мере, с неделю, сидел без чаю, не хватало. Тогда я пустился на хитрость: как только бывало замечу, что чаю в коробке остается немного, сушу выварки и подбавляю их по мере надобности; в конце концов так приспособился, что в последний вечер каждого месяца у, меня выходила последняя ложка чаю.
Правда, такой двойной чай был порою слишком жидок, но все-таки не хуже того, который во всей цивилизованной Европе должен представлять собою китайский напиток.
 ...Направо, за каменным каналом, тянулся ряд одноэтажных казематов с боковыми наружными галлереями; за казематами, вероятно, окопы, потому что с открытой стороны, за стоящей посреди площади церковью, виднелся такой же самый вал, на котором расхаживали часовые; следовательно, и тюрьма была обнесена таким же валом, так как на стенах моего двора часовых не стояло. Если влезть на крышу, с крыши на стену замка, то нужно еще спуститься на вал, и только тогда-на озеро - мало утешительного.
...Направо, за каменным каналом, тянулся ряд одноэтажных казематов с боковыми наружными галлереями; за казематами, вероятно, окопы, потому что с открытой стороны, за стоящей посреди площади церковью, виднелся такой же самый вал, на котором расхаживали часовые; следовательно, и тюрьма была обнесена таким же валом, так как на стенах моего двора часовых не стояло. Если влезть на крышу, с крыши на стену замка, то нужно еще спуститься на вал, и только тогда-на озеро - мало утешительного.
Но зато я убедился, что здесь вполне полагались на крепостные стены и окружающую их воду, так как стражи было очень мало, к тому, же она не могла видеть, что происходило внутри крепости, разве только там, где стояли казематы; днем солдат смотрел на озеро, а ночью должен был самым спокойным образом спать, а особенно в мороз или вьюгу,- ну, вот, как будто вижу его собственными глазами: сидит себе в будке и дремлет. Можно пройти в пяти шагах от него, и не заметит. Посмотрим, когда у нас в руках будут средства для побега!
...Настала зима; для меня это была первая русская зима; она вполне соответствовала тому мрачному настроению, в котором я находился. Должно быть я сильно изменился, потому что его превосходительство приказал перевести меня в другую камеру, в первый номер, прилегавший к самой кухне. Воспользуюсь этим обстоятельством, чтобы нарисовать подробный план всего секретного замка.
Тюрьма была невелика; она состояла всего из десяти одиночек, или номеров, с коридором посредине. Три номера, 8-й, 9-й и 10-й, выходили окнами на двор камеры отделялись друг от друга пустыми промежутками, выходившими на коридор на них отворялись двери одиночек. Другие семь номеров были обращены окнами в противположную юго-западную сторону, т. е. в полисадник, находившийся между тюрьмой и стеной замка; туда могли входить только солдаты. В семи камерах было по одному окну, в 1-м, 4-м и 7-м номере - по два. Один ряд камер имел то преимущество, что там можно было разговаривать с соседом, конечно, если он имелся; другая же сторона отличалась тем, что иногда сюда заглядывало солнце, а из окон открывался вид на двор, если только никто по нему не гулял, потому что во время прогулки окна заслоняли щитами.
В конце коридора, ближе к воротам, были сени с кухней и кордегардия для крепостных служителей; на другом его конце находилась такая же казарма для солдат. Офицера нигде не было, и сейчас скажу, почему.
Дочь Петра I, Елизавета, захватив в 1741 г. власть, посадила сначала в Рижскую крепость, а потом отправила в ссылку царя Ивана Антоновича, которому было в то время всего 4 года, а вместе с ним его мать, а свою двоюродную сестру, правительницу Анну, и всю царскую семью... Когда узник достиг 16 лет и узнал о своем звании, его посадили в 1756 г. в Шлиссельбург, из опасения революции, а может быть и вследствие открытия какого-нибудь заговора. Свергнутый царь томился в этой крепости, когда в 1762 г. Екатерина II, или, вернее, София фон-Ангальт-Цербст, приказала задушить своего мужа, Петра III, а сама сделалась царицей всея России...
В 1764 году поручик Мирович чтобы ... возвести на престол несчастного Ивана, взбунтовал шлиссельбургских солдат и овладел крепостью; но когда он добрался до камеры царя, то нашел только его труп. Тюремщики - неизвестно, по собственному ли желанию или исполняя приказ царицы зарезали узника, когда он спал. Мирович растерялся, сложил оружие и кончил жизнь на эшафоте.
С этого-то времени и было запрещено офицеру, начальнику караула, входить в секретный замок; он доводил шедших на смену солдат только до ворот, и лишь комендант, помощник его плац-майор да смотритель имели свободный доступ к секретным заключенным...
* * *
- Часть 1. Первое знакомство (Cемь лет в Шлиссельбурге, Б. Шварце)
- Часть 2. Долгие дни (Cемь лет в Шлиссельбурге, Б. Шварце)
- Часть 3. Сосед сошел с ума! (Cемь лет в Шлиссельбурге, Б. Шварце)
- Часть 4. Живы и свободны! (Cемь лет в Шлиссельбурге, Б. Шварце)
Сухопутные форты и крепости:
Выборг Гатчина Замок Бип Ивангород Изборск Кексгольм Кирилловский Монастырь Копорье Новгород Петропавловка Печорcкий монастырь Порхов Псков Старая Ладога Тихвин Шлиссельбург Замок Разеборг Кастельхольм Кюменлинна Лапеенранта Савонлинна Тааветти Турку Хамина Хямеенлинна Висбю Форт Хойторп Фредрикстад Фредрикстен Хегра Аренсбург Нарва Таллинн Антипатрис Иерусалим Кесария Масада Форт Латрун
Морские крепости и форты:
Кронштадт: о. Котлин Кронштадт: форты Северные Кронштадт: Форты Южные Тронгзунд Форт Александр Форт Ино Форт Красная Горка Свартхольм Свеаборг Ханко Ваксхольм Марстранд Форт Сиарё Оскарсборг
Артиллерийские батареи и отдельные орудия:
Береговая артиллерия Форт Хёмсо
Укрепрайоны и оборонительные линии:
Карельский УР Крепость Ленинград КрУР Линия ВТ Линия Маннергейма Невский пятачок Линия Салпа Линия Харпарског Готланд
English
П о и с к Все новости