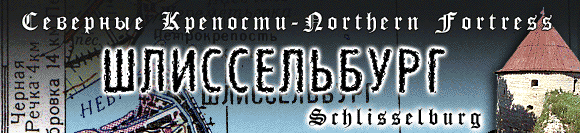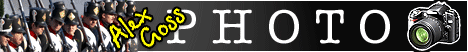Живы и свободны!
Живы и свободны! Все существо мое так и рвется излиться в одной благодарственной песне! Еще есть что-то, связывающее меня с давно утраченным мною светом, луч которого проник, наконец, ко мне в глубину Ладожского гроба... Из каждого слова этого связывающего меня с живым миром куска бумаги исходит утешение, любовь, вера, надежда:
"... Я понимаю и чувствую весь ужас твоего страдания, и ни на минуту, мой дорогой, ты не выходишь из нашей мысли и нашего сердца... О! Если бы ты мог проникнуть в это мгновение в мою душу и узнать, что я чувствую, чего желаю!.. Ибо никогда, никогда я не утрачу веры в то, что честно, законно, свято"...
С этих пор часть, лучшая часть моего существа жила далеко, далеко, за гранитными стенами четырех шведских башен, жила, правда, как в тумане, потому что разве возможно было узнать о чем-нибудь наверно из этих слезливых слов, прошедших сквозь сито жандармских управлений? И как долго все это просеивалось! Напишешь на Пасху, а на другой Пасхе получишь письмо с рождественскими поздравлениями. Доходили ли мои каракули в целости, этого я не знаю и поныне. Но все же переписка была для меня утешением.
Да, она служила целебным средством для моей больной души, но вместе с тем она усыпляла мою энергию: уж слишком хорошо мне было теперь. Уж я не рвался на волю с прежним упорством; теперь меня перестали занимать исключительно планы побега; впрочем, для этого вскоре явилось новое препятствие: мое здоровье отказалось, наконец, служить мне.
Зубы разбаливались все сильнее, никакие лекарства не помогали; день ото дня усиливался кашель, по временам с кровью, я был уверен, что приближается конец. Вечная сырость, недостаток света и свежего воздуха должны были постепенно разрушить мой организм.
Впрочем, я не хочу слишком жаловаться на шлиссельбургскую тюрьму. У меня давно уже был кашель, хоть и не в такой степени, а co времени смерти матери и затем отца я был убежден, что у меня наследственная чахотка, и потому не обращал на него внимания. Может быть потому я и жив до сего дня, что не лечился?...
 Прошло еще два однообразных года, без каких бы то ни было попыток нарушить это однообразие, как с моей, так и с той стороны. Я точно окаменел в своем решении, а болезнь ничего не позволяла мне предпринять. Голода больше не было, потому что желудок у меня почти не варил, а лекарства почтенного Мясоедова мало помогали. Правда, мне велели как можно меньше сидеть, сделали для меня даже пюпитр, чтобы читать стоя; но доктор сказал, что это мало поможет - необходима "перемена положения". Да и я знал это как нельзя лучше, но только ни сам ни о чем не просил, ни мне ничего не предлагали.
Прошло еще два однообразных года, без каких бы то ни было попыток нарушить это однообразие, как с моей, так и с той стороны. Я точно окаменел в своем решении, а болезнь ничего не позволяла мне предпринять. Голода больше не было, потому что желудок у меня почти не варил, а лекарства почтенного Мясоедова мало помогали. Правда, мне велели как можно меньше сидеть, сделали для меня даже пюпитр, чтобы читать стоя; но доктор сказал, что это мало поможет - необходима "перемена положения". Да и я знал это как нельзя лучше, но только ни сам ни о чем не просил, ни мне ничего не предлагали.
Пюпитр сделался для меня новым развлечением, совершенно непредвиденным властями. Когда мне надоедало молчать, когда приходилось по нескольку дней не выходить на прогулку из-за болезни, слякоти или чего другого; когда я подолгу не видел человеческого лица, кроме молчащего служителя с обедом или чаем, и мною овладевало желание слышать человеческий голос, я начинал петь песни, для аккомпанемента барабаня по доске пюпитра, так что по всему замку шел гул. Никто не мешал мне, да и зачем? Ведь я был один во всем секретном замке "его императорского величества".
...Весною 1870 года исполнилось семь лет моего пребывания в крепости. К моему удивлению, я все еще жил и начал даже новый десяток, дотянуть до которого уже не рассчитывал. Несмотря на неоднократные намеки в письмах, я уже давно не надеялся ни на царскую милость, ни на заступничество своего правительства; тем не менее я чувствовал себя спокойно и весело, хоть постоянно прихварывал, кашлял, исхудал и сделался слаб как ребенок...
...
- Его императорское величество в своей неизреченной милости соизволил повелеть, чтобы вас перевели для поправления здоровья в местность с лучшим климатом - в укрепление Верный.
В моем уме промелькнула карта Азиии где-то в новозавоеванных или, вернее, новооткрытых землях, за Балхашом, около китайской границы я заметил в горах крохотный кружок с надписью "Верный". Боже мой, какая даль! Где-то за страшными пустынями, далеко за Аральским морем, в крае, еще совершенно неизвестном в то время, когда я учился географии. Боже, какая даль!
...Но хуже всего было с книжками. Когда я их упаковывал, стоная от боли в пояснице, обливаясь потом и поминутно останавливаясь для отдыха, пришел Степанов и схватился за голову:
- Три кипы книг! Невозможно у меня только одна тройка, а нас трое, кроме вас.
Жандарм нахально лгал. Но что же мне было делать? Только после, за Уралом, он признался мне в пьяном виде, что ему дали на две тройки до самого Ташкента, да кроме того еще 500 рублей на "непредвиденные расходы"...
Наконец, за мной пришли и мы двинулись в путь. Я бросил последний взгляд на белые стены, на этих свидетелей моей внутренней жизни, моей борьбы с самим собой, моих самоугрызений, сомнений и восторгов; поручил заботливости унтера (и, вероятно, напрасно) испуганных и с любопытством смотревших на нас с печи голубей, и оставил навсегда седьмой номер "секретного шлиссельбургского замка".
Впереди шел генерал, за ним Степанов со смотрителем, потом ковыляла со стоном, поддерживаемая солдатом, сгорбленная, начинающая седеть фигура; процессию замыкали солдаты с двумя жандармскими унтер-офицерами, здоровенными украинцами из-за Днепра - Кривошеем и, кажется, Шевченкой.
Прошли мрачные ворота, мостик, аркады казематов, кордегардию. Я ждал, что на меня наденут железные украшения, но в инструкции было сказано: "По слабости здоровья, оков не надевать", - спасибо и на том.
 Не останавливаясь, миновали мы крепостные ворота, и я очутился, весь потный от чрезвычайных усилий при ходьбе, на берегу огромной Ладоги. Меня ожидала та же самая лодка с теми же самыми, или, по крайней мере, похожими на них, гребцами; за озером чернел тот же самый финский бор, желтели дома и церкви городка. Почти с сожалением посмотрел я на крепостной вал "ведь не доеду, - думал я, - дорогой затрясут меня до смерти. Но там видно будет!"
Не останавливаясь, миновали мы крепостные ворота, и я очутился, весь потный от чрезвычайных усилий при ходьбе, на берегу огромной Ладоги. Меня ожидала та же самая лодка с теми же самыми, или, по крайней мере, похожими на них, гребцами; за озером чернел тот же самый финский бор, желтели дома и церкви городка. Почти с сожалением посмотрел я на крепостной вал "ведь не доеду, - думал я, - дорогой затрясут меня до смерти. Но там видно будет!"
- С богом!-крикнул генерал.
И лодка отчалила, а на берегу долго еще стояли кучкой крепостные власти, пока мы, наконец, не приблизились к городу. После получасового отдыха в каком-то трактире, жандармы взяли меня под руки и посадили на почтовую телегу. Рядом со мной сел офицер; солдаты примостились, как могли, ямщик гаркнул: "Эй, соколики!"- и мы пустились так, что я думал, из меня вылетят все внутренности. Дорога шла на восток, берегом вечно угрюмой, серобурой, морщинистой Ладоги.
Это было 17 сентября 1870 года.

* * *
- Часть 1. Первое знакомство (Cемь лет в Шлиссельбурге, Б. Шварце)
- Часть 2. Долгие дни (Cемь лет в Шлиссельбурге, Б. Шварце)
- Часть 3. Сосед сошел с ума! (Cемь лет в Шлиссельбурге, Б. Шварце)
- Часть 4. Живы и свободны! (Cемь лет в Шлиссельбурге, Б. Шварце)
Сухопутные форты и крепости:
Выборг Гатчина Замок Бип Ивангород Изборск Кексгольм Кирилловский Монастырь Копорье Новгород Петропавловка Печорcкий монастырь Порхов Псков Старая Ладога Тихвин Шлиссельбург Замок Разеборг Кастельхольм Кюменлинна Лапеенранта Савонлинна Тааветти Турку Хамина Хямеенлинна Висбю Форт Хойторп Фредрикстад Фредрикстен Хегра Аренсбург Нарва Таллинн Антипатрис Иерусалим Кесария Масада Форт Латрун
Морские крепости и форты:
Кронштадт: о. Котлин Кронштадт: форты Северные Кронштадт: Форты Южные Тронгзунд Форт Александр Форт Ино Форт Красная Горка Свартхольм Свеаборг Ханко Ваксхольм Марстранд Форт Сиарё Оскарсборг
Артиллерийские батареи и отдельные орудия:
Береговая артиллерия Форт Хёмсо
Укрепрайоны и оборонительные линии:
Карельский УР Крепость Ленинград КрУР Линия ВТ Линия Маннергейма Невский пятачок Линия Салпа Линия Харпарског Готланд
English
П о и с к Все новости